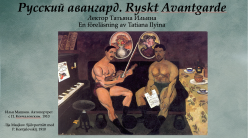Шведский принц Евгений. Озеро. 1891
Сергей Дягилев вошел в историю мировой культуры прежде всего как организатор и вдохновитель блестящих «Русских исторических концертов» и оперно-балетных «Русских сезонов» 1907-1914 гг. в Париже, Лондоне и других городах, познакомивших европейских слушателей с музыкой Николая Римского-Корсакова и Сергея Рахманинова, с гениальным оперным исполнением Федора Шаляпина. Михаил Фокин, Вацлав Нижинский, Анна Павлова, Тамара Карсавина стали легендой балетного искусства.
Валентин Серов. Афиша Русских сезонов. Анна Павлова в балете «Сильфиды». 1909
Волшебную атмосферу дягилевских спектаклей создавали костюмы и декорации художников из группы «Мир искусства» – Александра Бенуа, Льва Бакста, Александра Головина, Николая Рериха, а позднее – авангардных мастеров Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Невиданное ранее новаторское оформление балетных и оперных спектаклей оказало огромное влияние на мировое театрально-декорационное искусство.
Карл Ларссон. Комната мамы и маленьких дочек. Акварель. 1894-1897
Также заветной идеей Дягилева было «возвеличить русскую живопись на западе», а Россию познакомить с новейшими течениями европейского искусства. Именно Сергей Дягилев впервые представил русской публике знаменитых шведских мастеров – Андерса Цорна (Anders Zorn), Карла Ларссона (Carl Larsson), Бруно Лильефорса (Bruno Liljefors) и др.
ДЯГИЛЕВ И «МИР ИСКУССТВА»
В конце 19 века молодые петербуржские художники Александр Бенуа, Константин Сомов, Мстислав Добужинский, Лев Бакст, Евгений Лансере, Александр Головин, Иван Билибин и др. объединились в группу «Мир искусства». Их называли «ретроспективными мечтателями»: в эпоху предвестий грядущих бурь, войн и революций мастера Серебряного века ностальгически вспоминали и воссоздавали в своих произведениях век Золотой: в культуре 18-го и начала 19-го веков художники искали поэтический ключ к разгадкам тайн всей последующей русской истории.
Константин Сомов. Вечер. 1900-е гг.
Их картины, изысканные и хрупкие, как грёзы и сновидения, кажется, передают сам аромат ушедших эпох: волнующее очарование праздничной, театрализованной жизни, придворные балы и церемонии, фейерверки, сказочно пышные костюмы, прогулки по живым зеленым лабиринтам Версальского и Петергофского парков, сцены галантной любви. С утончёнными дамами и кавалерами соседствуют персонажи итальянской комедии дель арте – Арлекин, Коломбина. Воссоздавая прекрасную мечту о прошлом, художники с печальной иронией наблюдают за самими собой, осознавая невозможность возвращения к минувшему. Часто герои их картин подобны марионеткам, разыгрывающим кукольный спектакль.
И в то же время, воссоздавая «эхо прошедших времен» (так называлась одна из картин К.А. Сомова), художники прокладывали новые пути в живописи. «Мир искусства» был прежде всего просветительским проектом: выпускаемый его участниками одноименный журнал знакомил публику с самыми современными течениями не только русской, но и зарубежной культуры. Каждый выпуск журнала, выходившего с 1898 по 1904 год, оформлялся ведущими художниками и был настоящим произведением искусства.
Мария Якунчикова. Обложка журнала «Мир искусства». 1898
Спонсорами издания выступили знаменитые меценаты Савва Мамонтов и Мария Тенишева, которых сумел заинтересовать новыми идеями Сергей Дягилев. Сам он стал главным редактором журнала, редакция располагалось в его петербургском доме.
Именно Дягилев был главным двигателем всех просветительских проектов «Мира искусства». Кипучая энергия, яркая харизма и недюжинные организаторские способности продюсера, способность очаровать и уговорить любого помогали и привлечь авторов и спонсоров для журнала, и обеспечить участие в выставках знаменитых русских и зарубежных художников, и пригласить на вернисаж венценосных особ, и распиарить новый проект в прессе. Лидер мирискусников Александр Бенуа говорил: «там, где мы с художниками лишь начинали обсуждать, как хорошо было бы, если бы… появлялся Дягилев, и «если бы» сразу превращалось в «стало»!
Константин Сомов. Портрет Сергея Дягилева.1893
21-летний Сергей Дягилев, запечатленный в акварели Константина Сомова, словно пристально вглядывается внутрь себя, пытаясь разглядеть свой путь и предназначение.
РУССКИЙ ВЗГЛЯД НА СКАНДИНАВСКУЮ КУЛЬТУРУ
На рубеже 19-20 веков взгляды русских историков, поэтов, художников обратились к национальным традициям и фольклору: сказкам и былинам, народным орнаментам и костюму; в них увидели исконные древние идеалы красоты. Виктор Васнецов, Василий Поленов и его младшая сестра Елена Поленова, Сергей Малютин и другие художники стали родоначальниками неорусского стиля в искусстве.
Обращение к древним корням стало важным в это время и для скандинавских мастеров. Суровая северная природа и народные обычаи, национальный эпос «Калевала», древние мифы и саги вдохновляли шведа Акселя Галлен-Каллелу, жившего в Финляндии, Андерса Цорна, Карла Ларссона, Бруно Лильефорса и других художников.
Аксели Галлен-Каллела. Защита Сампо. 1896
Искусство Скандинавии, еще недавно провинциальное, переживало яркий расцвет, который Сергей Дягилев назвал «Северным Возрождением»: «Как только появились эти снега, озера, туманы, ели и пахнуло севером, так все двери отворились навстречу этим художникам, и северная живопись вошла в жизнь Европы, заняв свое место в её искусстве».
В 1894 году вышла ставшая сенсацией книга Рихарда Мутера «Geschichte der Malerei im XIX Jahrhundert» («Всеобщая история живописи»), где впервые было уделено значительное внимание скандинавскому искусству и также впервые получили достойное место в истории искусства новаторские течения конца 19 века – импрессионизм, символизм и другие.
Леон Бакст. Портрет Александра Бенуа. 1898
Александр Бенуа, тогда еще 24-летний недавний выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета, написал главу о русском искусстве, которая первоначально отсутствовала в плане издания. Можно лишь поразиться смелости молодого человека в его стремлении отстоять место и значение русской живописи в европейском искусстве и сумевшего убедить в этом маститого немецкого автора.
Вслед за Мутером Сергей Дягилев, страстно мечтавший об обновлении русской живописи, был уверен в необходимости знакомства читателей со всем молодым, свежим и талантливым в европейской культуре. В скандинавских художниках Дягилева особенно восхищало то, что они вступили «на общеевропейский путь развития без утраты национальных особенностей». Он желал того же русскому искусству и загорелся идеей показать в России современную северную живопись.
Леон Бакст. Портрет Сергея Дягилева с няней. 1906
Так возникла идея знаменитой Скандинавской выставки. Выставка проходила в Петербурге в октябре 1897 года под эгидой Общества поощрения художеств, но ее подлинным вдохновителем и куратором был Сергей Дягилев, которому на тот момент исполнилось всего 25 лет. На выставке были представлены 289 картин и графических произведений северных мастеров, из них 105 работ двадцати шведских художников.
«БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ»
За год до открытия Скандинавской выставки в Петербурге русский художник и искусствовед Игорь Грабарь видел скандинавскую живопись на международной выставке 1896 года в Берлине и восхищенно писал: «Северяне – шведы, норвежцы, датчане, голландцы – сильнее всех. Они выдвинулись совсем недавно и успели не только заставить заговорить о себе весь художественный мир, но и вытеснить других, занять первенствующее место. Центром выставки является, бесспорно, А. Цорн. Это один из лучших знатоков формы, сумевший вместе с этим соединить блестящий, совсем из ряда вон выходящий колорит. Обыкновенно рисовальщики бывают слабыми колористами. Цорн — какой-то баловень судьбы, которого природа наделила всем, о чём только может мечтать художник».
Андерс Цорн. Автопортрет. 1889.
Цорн, начавший творческий путь как скульптор и всю жизнь продолжавший, наряду с живописью, заниматься скульптурой, изобразил себя за работой над бюстом своей жены Эммы. Эта картина находится в знаменитой галерее автопортретов в Уффици во Флоренции, где собраны автопортреты самых прославленных художников мира. Российское искусство представляют в Уффици автопортреты Ореста Кипренского – автора самого известного портрета А. Пушкина, Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, Марка Шагала.
Андерс Цорн. Бюст Эммы Цорн, жены художника. 1889.
И действительно, незаконнорожденный сын крестьянки и пивовара из деревни вблизи городка Мура (швед. Mora), Цорн сумел стать всемирно известным живописцем и желанным гостем в самых изысканных салонах Парижа и Лондона. Ему заказывали портреты знатные дамы и прославленные деятели культуры, члены шведской королевской семьи и американские магнаты. Виртуозная, размашистая живопись, ставшая его «фирменным знаком», и небывалая стремительность работы потрясали современников.
В России у Андерса Цорна было много восторженных поклонников, в том числе русский импрессионист Константин Коровин, познакомившийся и подружившийся со шведским мастером в Париже. Там же в Париже был создан портрет знаменитого мецената Саввы Мамонтова. Усадьба Мамонтовых Абрамцево под Москвой стала на рубеже 19-20 веков центром художественной жизни, где собирались самые известные художники – В. Васнецов, И. Репин, М. Врубель, В. Серов, К. Коровин и где зародился неорусский стиль. Предпринимательская деятельность Мамонтова была связана со строительством железных дорог, и Правление российской Московско-Ярославской железной дороги заказало прославленному шведскому мастеру портрет своего председателя.
Андерс Цорн. Портрет русского предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова. 1896.
Портрет был исполнен всего за три сеанса. Увидев законченный портрет, Мамонтов удивленно спросил: «А где же пуговицы на пиджаке?», на что Цорн гордо ответил: «Я художник, а не портной!». Эта фраза, много раз восхищенно пересказанная Мамонтовым, стала крылатой.
На следующий год Андерс Цорн, приглашенный в Петербург Дягилевым в качестве личного гостя, стал «звездой» Скандинавской выставки.
ДЯГИЛЕВ В ШВЕЦИИ
С целью знакомства со скандинавскими художниками и отбора работ для выставки Дягилев отправился на Художественно-промышленную выставку в Стокгольм. Письмо от принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, председательницы Общества поощрения художеств, приходившейся племянницей шведскому королю, обеспечило ему покровительство принца Евгения – известного в Швеции пейзажиста, курировавшего художественный отдел выставки в Стокгольме. Большая часть работ для Скандинавской выставки в Петербурге была отобрана в Стокгольме и получена под поручительство принца Евгения. Принц также дал на выставку несколько своих пейзажей. Несколько картин были даже выданы на выставку в Россию крупными музеями, в том числе Стокгольмским национальным музеем.
Оскар Бьорк (Oscar Björck). Портрет шведского принца Евгения за мольбертом. 1895
Всё лето 1897 года Дягилев объезжал мастерские художников в Швеции, Дании и Норвегии. Особенно яркие впечатления от поездки по Швеции остались у него от встречи с Андерсом Цорном в его деревенском доме в Муре и от знакомства с художником-анималистом Бруно Лильефорсом. Позднее Дягилев описал свои впечатления в журнале «Северный вестник» в большой статье «Скандинавская живопись», где также много слов благодарности шведскому принцу Евгению.
Статья Сергея Дягилева, как и все лучшие образцы художественной критики Серебряного века (Александр Бенуа, Сергей Маковский и др.) - это больше и глубже, чем мемуары, тоньше и изящнее, чем наука об искусстве – это ИСКУССТВО ОБ ИСКУССТВЕ. Хотелось бы привести большой отрывок из статьи, чтобы читатели могли это почувствовать.
Бруно Лильефорс. Охотник. 1891
Рассказывая о встрече со знаменитым шведским анималистом Бруно Лильефорсом – другом Андерса Цорна и Карла Ларссона и братом известного композитора Рубена Лильефорса, учившимся в Шведской Королевской академии и много путешествовавшим по Европе, Дягилев видит его совершенно иначе и создает свой особенный художественный образ: образ отшельника-аскета, живущего в дикой глуши, без благ цивилизации; природа открывает ему свою сокровенную суровую красоту, в которой жизнь и смерть слиты воедино.
«ГРОЗНЫЙ ПОЭТ ЛЕСНОЙ ЖИЗНИ»
«Под ужасным проливным дождем, – пишет Дягилев, – когда черные тучи низко неслись, задевая верхушки дремучего черного леса, я, переплыв на широкой ладье огромное дикое озеро, подъехал к маленькому домику в лесной глуши. Здесь жил Bruno Liljefors, один из тех художников, которые ничего не ищут, кроме вечной беседы с природой. Им все равно, в какой эпохе они живут, их не тревожит борьба, их не пленяет слава. Они достигли той жизни птиц небесных, которая издали кажется невероятной. И я увидел и поверил в возможность такой жизни.
Бруно Лильефорс. Зимняя ночь в лесу.
Liljefors пишет лес и его многочисленных обитателей. Что может быть проще и старее этого? Но художник дал в своей простой задаче такие титанические образы, до которых никто даже издали не прикасался. Он смог путем самого реального и незамысловатого выражения <…> дать величайшие символы, достигнуть едва ли не Бёклиновской силы. Для меня Liljefors символ всего северного искусства, какой-то тяжелый исполин, который рубит с плеча своею могучей секирой.
<…> Художника не было дома: когда я к нему приехал, он отправился на озеро охотиться. Дождь падал крупными каплями, ветер завывал и лес шумел высокими верхушками. Я взошел в маленький деревянный дом с низкими комнатами, простой деревянной мебелью и десятками редких птиц, живых и в чучелах – словом, целым птичьим царством. Я решился ждать. Дождь не унимался, огромные ели качались и озеро широкое, серое, вздувалось и шумело. Мне было одиноко и страшно, как вдруг я услыхал протяжный набат большого колокола, висевшего на дворе, которым оповещали хозяина о приезде гостя. Прошло кажется долгое время, художник не появлялся и набат затих. Я задремал. Буря не унималась и на дворе начало темнеть. Я был разбужен каким-то протяжным отчаянным воем – это было последнее средство, чтобы вызвать хозяина с озера – трубили в большие рога.
Бруно Лильефорс. Лисята. 1901.
Боже мой, такого ощущения я никогда не испытывал! Этот серый вечер, эти тяжелые тучи, как валькирии, несшиеся в Валгаллу, и темный лес и заунывный раздирающий стон рогов… На озере показалась лодка, хозяин услыхал призыв и приближался. Через несколько минут я увидел небольшого, рыжего, небритого человека в огромных сапогах, окруженного массой собак. Мастерская его была наверху, на чердаке, и <…> он провел меня показать большую картину «Стая гусей на берегу озера», с черной землей и красным вечерним небом. Я, признаюсь, всматривался больше в него, в этот поразительный для меня тип, чем в его работы. Я наблюдал за его добрыми глазами и улыбкой, за всей его маленькой непривлекательной фигуркой в огромных наполненных водой сапогах, за его вдумчивым взглядом и тяжелым молчанием, которое он редко прерывал, показывая какой-нибудь новый труд. Внизу он с виноватой улыбкой сказал, что не может ничем угостить меня, так как усиленные призывы помешали ему настрелять дичи для обеда и что он просит меня разделить с ним его еду. Нам подали тарелку вишен.
Бруно Лильефорс. Перелет уток. 1894.
Эта картина, участвовавшая в Скандинавской выставке в Петербурге, ныне находится в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Москве.
Так живет этот человек в глуши Швеции, просто и без труда ограничив те потребности, которые нам кажутся необходимыми. Он слился с природой и превратился в дикое растение, сохранившее детскую отзывчивую душу и тонкое чувство прекрасного. Вся жизнь его состоит из 2-х актов – из восприятия природы и из воспроизведения ее. Вне этого он не существует».
«СЕВЕРНЫЙ КРЕСТЬЯНИН С ТОНКИМИ РУКАМИ АРИСТОКРАТА»
Несколько незабываемых дней Дягилев прожил в деревне «на холмистых берегах озера Сильян» в гостях у Андерса Цорна. По контрасту с «диким исполином»-отшельником Бруно Лильефорсом, Сергей Дягилев рисует образ Цорна – «северного крестьянина с тонкими руками аристократа». «Цорн – всемирный художник, и для него нет границ, – пишет Дягилев. – Это олицетворение львиной силы, самый блестящий виртуоз из современных художников, в технике не имеющий соперников. <…>
Андерс Цорн. Тост в обществе «Идун». 1892.
Бог знает, как он вырос и как развился <…> Отец его был простой крестьянин, а мать до сих пор работает в поле. Далекарли – единственная область Швеции, где сохранились в неприкосновенности старые народные костюмы, где процветают кустарные изделия и где нет почти крестьянского дома, не увешанного картинами народного производства. <…> Художник с исключительной нежностью любит это маленькое местечко Мура на берегу широкого голубого озера с шестисотлетней церковью и воздухом, напитанном преданиями о Густаве Вазе, любимом герое страны. Недалеко от старинной церкви, купленной им, когда крестьяне хотели ее переделать, Цорн построил свою виллу и остался жить в ней большую часть года после поездок по всему свету. <…> Мне было невыразимо странно видеть Цорна у себя дома, в неожиданной для меня обстановке, после всего ослепительного блеска, в котором я видел его в парижских салонах, в гостиных Лондона или в галерее портретов великих художников во флорентийской Уффици».
Андерс Цорн. Танцы в Иванову ночь. 1897.
Больше всего Дягилева поразила естественность и стремительность перевоплощений знаменитого шведского мастера: так же легко, как он сменил «свой обычный крестьянский костюм из простого тёмного сукна» на «элегантное английское платье», ожидая русского гостя, Цорн из крестьянина, глубоко укорененного в родной почве, слитого с деревенской жизнью своей семьи, самозабвенно танцующего на деревенской вечеринке, превращался в беседах с Дягилевым в тонко мыслящего художника.
Те же слитые воедино крестьянский уют и изысканность стиля модерн, органичное сочетание народного искусства и элегантного английского стиля в интерьере отмечает Дягилев в доме Цорна: «Цорн собственноручно доканчивал постройку своей виллы, следил за вбиванием каждого гвоздя, делал рисунки для каждой двери и длинными кистями проходил декорации на огромных ширмах в своём ателье. <…> Проведя меня через большую столовую, отделанную сверху донизу крестьянскими картинами, полками со старым шведским стеклом, с елками по углам и огромной печью-камином, Цорн ввел меня в комнату для гостей, где я почувствовал себя сразу перенесенным в Англию с изящным Walter Crane’ом и тонкой мебелью Liberti. Всё было грациозно, элегантно отделано, и на всём лежал отпечаток уютного деревенского дома».
Андерс Цорн. Вечер. 1891
На другой день шведский мастер с гордостью показывал Дягилеву подлинники Рембрандта и Хусепе Риберы из своей коллекции, и тут же, снова перейдя в другую свою ипостась, предложил русскому гостю отправиться на парусной лодке навестить сестер и мать художника, работавших в поле.
СКАНДИНАВСКАЯ ВЫСТАВКА
Отобранные Дягилевым работы прибыли в Россию, и 11 октября 1897 года в здании Общества поощрения художеств в Петербурге открылась Скандинавская выставка, представившая зрителю небывало широкую панораму шведского, норвежского и датского искусства. По личному приглашению Дягилева приехали Андерс Цорн и известный норвежский художник Фриц Таулоу.
20 шведских мастеров прислали работы на выставку, среди них - принц Евгений, Андерс Цорн, Карл Ларссон, Бруно Лильефорс, Карл Нордстрём (Karl Nordström) и др. Восторженные отклики зрителей и прессы ожидаемо вызвали картины и офорты Цорна, к этому времени уже всемирно известного художника.
Андерс Цорн. Красные чулки. 1887.
«Красные чулки» и офорт «Омнибус» были представлены на Скандинавской выставке в числе других работ Цорна.
Андерс Цорн. Омнибус. Офорт. 1892.
С теплом восприняли пейзажи принца Евгения, чему способствовал и его высокий титул. Чуткий к новым веяниям Дягилев отметил еще в своем путешествии по Швеции своеобразие и необычность живописи Карла Нордстрёма, и 7 работ художника были представлены на выставке.
Карл Нордстрём. Овсяное поле в Грезе. 1885.
Симпатии публики вызвали сцены семейной жизни в акварелях Карла Ларссона, до выставки не знакомого россиянам. Удивляла лишь обнаженная женская фигура в «Мастерской на пленэре»: работы Ларссона экспонировались под общим названием, и не каждый из зрителей оказался настолько внимательным, чтобы заметить мольберт в правом нижнем углу и понять, что изображена модель, позирующая художнику. «Филин» Лильефорса внушил даже страх некоторым зрителям своей стихийной грозной силой.
Карл Ларссон. Мастерская на пленэре. 1899.
Бруно Лильефорс. Рогатый филин в чаще леса. 1895.
Кажется, сама ночь, темный лес и скалы рождают огромную птицу – воплощение духа суровой и грозной северной природы, которая словно «не видит» человека.
Приобретены с выставки были лишь немногие произведения – цены были по-европейски высокими и непривычными для русских покупателей. Но впечатления от знакомства со скандинавским искусством, особенно с живописью Андерса Цорна, с процессом его работы во время публичных сеансов, которые он давал в России, оказали влияние на крупнейших мастеров – Константина Коровина, Валентина Серова, Филиппа Малявина, Абрама Архипова и др.
ЦОРН В РОССИИ
Особый личный гость Дягилева, Цорн поселился на время своего пребывания в Петербурге в квартире куратора выставки. Позднее Цорн с теплом вспоминал, как радушно принимали его в России, как «друг Дягилев» подготовил «программу всех мероприятий на две недели вперёд». Однако не все обычаи русского гостеприимства оказались приемлемы для шведа, например, традиция целовать дорогого гостя в обе щеки при встрече. И со смущением, и с юмором он вспоминал: «меня целовали все мужчины и ни одной женщины». Были и совсем комичные ситуации, когда на одном из званых обедов Цорн, побледнев от страха, наотрез отказался есть знаменитую стерляжью уху, приняв плававшую в тарелке рыбу стерлядь за змею.
Андерс Цорн. Купальщица. 1897.
Эту картину Цорн посвятил своему русскому другу Константину Коровину. Ныне она находится в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве.
Прославленного мастера наперебой спешили чествовать художники, меценаты и аристократические семейства. Об одном из таких званых вечеров рассказал еще один русский друг Цорна – Константин Коровин:
«Цорн, я и Поленов были приглашены на вечер к князю В. М. Голицыну. Кажется, он был в это время губернатором Москвы. Князь сам приехал и пригласил Цорна и нас. Его жена, Софья Николаевна Голицына, рисовала и писала красками. Народу на вечере было много, много дам света. Приехали посмотреть знаменитого художника-иностранца.
Константин Коровин. Портрет княгини Софьи Голицыной. 1886.
Это тот самый «портрет Софи», о котором говорят в рассказе Коровина светские дамы.
За большим круглым столом расположились гости за чаем.
– Теперь такая живопись пошла, – говорила одна дама. – Ужас! Все мазками и мазками, понять ничего нельзя. Ужасно. Я видела недавно в Петербурге выставку. Говорили, это импрессионисты. Нарисован стог сена, и, представьте, синий… Невозможно, ужасно. У нас сено, и, я думаю, везде – зеленое, не правда ли? А у него синее! И мазками, мазками… Знаменитый, говорят, художник-импрессионист, француз. Это ужас что такое! Вы вот хорошо, что не импрессионист, надеюсь, у нас их нет, и слава богу.
Я смотрю – Цорн как-то мигает.
– Да. Но и Веласкес – импрессионист, сударыня, – сказал он.
– Неужели? – удивились дамы.
– Да, и он (Цорн показал на меня) – импрессионист.
– Да что вы. Неужели? – вновь изумились дамы. – А портрет Софи написал так гладко!..
Дорогой до дома Цорн спрашивал меня:
– Это высший свет? Это высший свет?
– Да, – говорю я.
– Как странно…»
Александр Головин. Портрет оперного певца Федора Шаляпина в роли Олоферна в опере «Юдифь». 1908
Но были, конечно, и совсем другие впечатления. По свидетельству Коровина, Цорн был потрясен пением Федора Шаляпина и собранием картин в галерее Павла Третьякова в Москве: «Цорн долго смотрел картины, особенно Сурикова, и сказал, что он поражен и восхищен этим собранием живописи: «Я вижу особенность и силу собранных произведений, в них есть чисто русские свойства».
Василий Поленов. Зима. Имоченцы. 1880.
Этюд, восхитивший шведского мастера, изображает усадьбу семьи Поленовых в Карелии.
В гостях у Василия Поленова, автора картины «Московский дворик» и большого полотна «Христос и грешница», приобретенного императором Александром III, шведский мастер был больше всего восхищен не этими знаменитыми работами, а «смотрел на висевший рядом на стене большой этюд, написанный с натуры Поленовым, «Зима в Олонецкой губернии» (откуда он родом) – деревенские избы на фоне высокого леса. «Как это прекрасно, – сказал Цорн. – Тут дивные краски!».
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ПОРТРЕТ
В России Цорн начал писать заказанный ему портрет княгини Марии Тенишевой – благотворительницы и мецената. Усадьба Тенишевых Талашкино близ Смоленска стала, наряду с Абрамцевым Саввы Мамонтова, центром возрождения русских ремесел и сложения неорусского стиля.
Дом-Теремок в Талашкино по проекту Сергея Малютина. 1901
Илья Репин, Константин Коровин, Михаил Врубель, Николай Рерих, Сергей Малютин и другие мастера создавали в мастерских Талашкина мебель и предметы быта в духе русского народного искусства, расписывали музыкальные инструменты для знаменитого талашкинского оркестра балалаечников. Этот оркестр получил золотую медаль на Международной выставке в Париже в 1900 году.
Балалайка, расписанная Михаилом Врубелем. 1899.
Талашкинский оркестр балалаечников. Фото. Конец 19 века
В оркестре играли крестьянские дети. В последнем ряду в центре – Мария Тенишева.
Княгиня создала в Смоленске Музей русской старины, а в Петербурге молодые художники обучались на ее средства в студии под руководством Ильи Репина. Тенишева собрала прекрасную коллекцию акварелей, в том числе две акварели были приобретены ею на Скандинавской выставке. Позднее она подарила свою коллекцию Русскому музею в Петербурге.
Казалось бы, работа над образом такой яркой женщины должна была увлечь шведского мастера. Но портрет не задался: каждый раз, берясь за кисти, Цорн начинал испытывать головную боль. Что-то в Тенишевой вызывало у него непреодолимое отторжение; в письме своей жене Эмме художник даже намекал на лесбийские пристрастия княгини. Но скорее можно предположить, что сам непривычный Цорну тип женщины, который являла собой Мария Тенишева, – женщины независимой, самостоятельной, целеустремленной, с лидерскими качествами вызывал раздражение шведского мастера.
Андерс Цорн. Портрет жены художника Эммы за чтением. 1887.
Жена Цорна Эмма – девушка из богатой еврейской семьи, сумевшая отстоять свою любовь к тогда еще бедному и не очень известному крестьянскому парню вопреки воле состоятельных родителей, посвятила всю себя мужу, прощая ему и шумные пирушки с друзьями, и многочисленные увлечения другими женщинами – от крестьянок до аристократок. Вероятно, в этом была ее женская мудрость, так она сумела сохранить свой брак с прославленным живописцем.
Мария Тенишева, напротив, видела свое жизненное предназначение не столько в семейной жизни, сколько в просветительских проектах, которыми она могла увлечь и своего мужа, крупного промышленника, и других спонсоров, и, главное, художников. Не случайно Михаил Врубель запечатлел княгиню в образе неистовой валькирии.
М.А. Врубель. Валькирия. Портрет княгини Марии Тенишевой. 1899.
Но у Андерса Цорна, привыкшего доминировать во всем, такой независимый тип женщины не вызывал симпатии. Портрет так и остался незаконченным… А образ Марии Тенишевой, помимо Врубеля, запечатлели еще многие русские художники – Илья Репин, Валентин Серов, Константин Коровин и др.
«Я НИКОГДА НЕ ИМЕЛ БОЛЬШЕГО ТРИУМФА»
Сергей Дягилев и Савва Мамонтов устроили 26 октября банкет в честь Андерса Цорна одном из самых дорогих петербургских ресторанов «Донон». Репин преподнес гостю собственноручно расписанное акварелью банкетное меню, восхитившее Цорна, и произнес восторженную речь от лица русских художников, назвав шведского мастера «Паганини живописи». В ответной речи Цорн предложил тост за самого знаменитого русского художника и вручил ему в подарок свой офорт. Дягилев говорил о значении скандинавской живописи, вслед за его речью другие речи и тосты лились нескончаемой рекой. Шведский мастер купался в волнах восторженного внимания. Цорн написал в письме домой: «Всё прошло успешно — я никогда не имел большего триумфа».
Татьяна Ильина, искусствовед, сотрудник научно-просветительского отдела Третьяковской галереи, автор книг и статей по искусству.
2022
Еще по теме
- Шедевры русского искусства https://rurik.se/vesti-iz-russkih-nko/26544
- Семь веков древнерусского искусства https://rurik.se/old-events/26205
- Третьяковская галерея: история создания и шедевры коллекции https://rurik.se/news/24086
- Tretjakovgalleriet: samlingens tillkomsthistoria och främsta mästerverk https://rurik.se/nyheter/24268
- Русский музей в Петербурге. История создания https://rurik.se/news/22825
- Ryska museet i S:t Petersburg från upprättandet till nutiden. https://rurik.se/nyheter/23711
- Кремлевские звезды https://rurik.se/news/19451
- Русские художники на Балтийской выставке в Мальмё (1914) и судьбы их картин https://rurik.se/news/21901
- Ryska konstnärer på Baltiska utställningen i Malmö (1914) och tavlornas öden https://rurik.se/nyheter/21981
- Русские художники на Балтийской выставке в Мальмё (1914) и судьбы их картин. Николaй Рерих https://rurik.se/news/22308
- Ryska konstnärer på Baltiska utställningen i Malmö (1914) och tavlornas öden: Nikolaj Roerich https://rurik.se/nyheter/22536
- Шедевры русской живописи. Русский авангард https://rurik.se/old-events/27538
- Первая лекция для шведско-русской аудитории на двух языках: вебинар о Русском музее в Петербурге https://rurik.se/news/22679
- Москва в изобразительном искусстве https://rurik.se/news/21267
- Выдающийся русский просветитель Иван Бецкой, сын князя И. Трубецкого и шведской баронессы https://rurik.se/old-events/27111
Еще по теме
Фото: Юлия Захарова. 2022. ГТГ
Подробнее о выставке и скачать буклет выставки