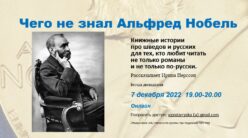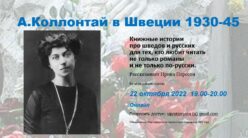ИЗ ИСТОРИИ РУССКО-ШВЕДСКИХ СВЯЗЕЙ
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУССКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ ИВАН БЕЦКОЙ, СЫН КНЯЗЯ И. ТРУБЕЦКОГО И ШВЕДСКОЙ БАРОНЕССЫ
История отношений России и Швеции полна драматических событий и войн: соседи на земном шаре, два государства издавна были соперниками на суше и на море. Но и в военное, и в мирное время устанавливались человеческие и культурные связи, взаимно обогащавшие обе страны. Иногда война и мир, вражда и любовь так прихотливо сливались в судьбах людей, как не смог бы придумать романист с самым богатым воображением. Именно такой была судьба Ивана Ивановича Бецкого – выдающегося просветителя, создателя новой, передовой, необычайно смелой для 18 века системы образования и воспитания, целью которой было создание в России «новой породы» просвещенных людей.
ТАЙНА РОЖДЕНИЯ
Иван Иванович Бецкой – дитя русско-шведской Северной войны и запретной любви. Борьба за господство над побережьем Балтийского моря велась с незапамятных времен, когда скандинавские викинги совершали набеги на Русь. В Смутное время (1598-1613) она едва не завершилась воцарением на русском троне младшего брата шведского короля Густава II Адольфа – принца Карла-Филиппа (1601-1622). Смутное время на Руси началось со смертью Иоанна Грозного и его сына Федора – пресеклась древняя царская династия Рюриковичей, и наступила эпоха голода, бедствий, кровавых внутренних и внешних войн. В 1613 г. новый царь был избран из русского рода Романовых, и царствие Михаил Романова положило начало царской династии, правившей в России до революции 1917 года. Одним из главных претендентов на престол во время выборов нового царя в 1613 году был также князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, представитель одного из древнейших родов, предок нашего героя.
Длившаяся более 20 лет (с 1700 по 1721 год) Северная война стала завершающим этапом русско-шведского противостояния. Россия получила выход к Балтийскому морю, а основанный Петром I город Санкт-Петербург стал, по словам А.С. Пушкина, «окном в Европу».
Как и другие русские военачальники, он жил в Стокгольме под домашним арестом. Возможно, у шведских политиков были далеко идущие планы на сотрудничество с Трубецким, потомком претендента на русский престол. Однако все помыслы князя были о возвращении на родину. В мае 1703 года, рискуя жизнью, он совершил побег вместе с генералами Адамом Вейде и Иваном Бутурлиным. Но беглецов поймали, и условия содержания их в плену стали намного жестче. Трубецкой оставался в плену долгих 18 лет, после чего его наконец обменяли на шведского фельдмаршала Рёншильда, взятого в плен под Полтавой.
Несмотря на свое положение военнопленного, князь Иван Трубецкой был допущен к королевскому двору. Вероятно, именно в Стокгольме был написан его портрет, находящийся ныне в Третьяковской галерее в Москве. Исследовавшие портрет сотрудники Национального музея Швеции пришли к выводу, что портрет может быть произведением шведского художника Давида фон Крафта (David von Krafft) или одного из его учеников. Портрет князя-пленника поражает незыблемой уверенностью в себе и чувством собственного достоинства.
Но начало войны было чрезвычайно тяжелым для России и принесло множество потерь. 30 ноября 1700 года король Карл XII нанес русским войскам сокрушительное поражение под городом Нарва, множество солдат и офицеров попали в плен. В числе пленников оказался командовавший одной из дивизий и отважно сражавшийся князь Иван Юрьевич Трубецкой (1667-1750).
Где, при каких обстоятельствах состоялось в Стокгольме знакомство русского военнопленного со шведской аристократкой, как зародилась и развивалась их любовь, – до сих пор остается тайной. Неизвестно и имя шведской возлюбленной И.Ю. Трубецкого, подарившей ему сына, есть лишь гипотезы. Баронесса Вреде? Графиня Шпарр? Или, может быть, кто-то еще, чье имя осталось в тени? Мальчик, родившийся 14 февраля 1704 года, был признан и любим отцом. По русскому обычаю, этот незаконнорожденный ребенок получил усеченную фамилию отца – Бецкой. Назвали его Иваном.
Позднее князь получил разрешение на приезд своей русской супруги в Швецию. Ирина Григорьевна Трубецкая приехала в Стокгольм с дочерьми Екатериной и Анастасией, родившейся за месяц до пленения отца. Она разделила с мужем все тяготы плена и взяла на себя воспитание незаконнорожденного сына И.Ю. Трубецкого. Об участии биологической матери в его судьбе никаких сведений не обнаружено.
РУССКИЙ ЕВРОПЕЕЦ
Многолетнее пребывание в Швеции, омраченное для И.Ю. Трубецкого несвободой и тоской по Родине, имело и свои плюсы: его сын Иван Бецкой и красавицы-дочери получили блестящее европейское образование, знали множество иностранных языков. Возвращаясь в Россию, отец определил мальчика в Кадетский корпус в Копенгагене. Ивана Бецкого ждала блестящая военная карьера, но… несчастный случай – падение с лошади и серьезная травма сделали офицерскую службу невозможной.
Юноша отправился путешествовать по Европе. В общей сложности он провел за границей более 20 лет с перерывами. Блестяще образованный, любознательный, жадно впитывавший новые знания и самые передовые идеи, он выполняет дипломатические поручения, знакомится с трудами французских философов-энциклопедистов (Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо, Ф. Вольтера и др.), с многими из которых он был знаком лично.
В 1720-е годы его жизненный путь пересекся с юной немецкой герцогиней Иоганной Елизаветой Ангальт-Цербстской. В этот период времени Германия представляла собой множество небольших княжеств, поставлявших знатных женихов и невест к европейским и русскому дворам. Одним из них было княжество Ангальт-Цербстское. По возвращении на родину Иоганна Елизавета вскоре родила дочь – будущую императрицу Екатерину Великую. Отсюда возникла версия, что именно И.И. Бецкой был истинным отцом русской императрицы.
Скорее всего, это лишь легенда; но зато вполне вероятно, что Бецкой, прекрасно знакомый с придворной жизнью европейских столиц и сохранивший теплые отношения с Иоганной Елизаветой, позднее посоветовал императрице Елизавете Петровне выбрать дочь Ангальт-Цербстской герцогини в невесты наследнику престола. По поручению императрицы Бецкой привозит невесту с матерью в Россию, а после свадьбы молодых он вместе с Иоганной Елизаветой покидает Россию на несколько лет, чтобы вернуться в 1762 году, когда дочь его возлюбленной Екатерина II восходит на престол.
В начале своего царствия Екатерина Великая была полна великих замыслов, одним из которых было создание новой системы образования и воспитания. Этот проект она обсуждала и в переписке с французскими философами; и конечно, Иван Бецкой становится в деле образования ее горячим единомышленником.
НОВАЯ ПЕДАГОГИКА
Педагогическая система, созданная Бецким при поддержке императрицы, основанная на идеях французских просветителей и изучении опыта европейских учебных заведений, не повторяла их слепо, а развивала эти идеи гораздо тоньше и глубже.
Соглашаясь с французами в том, что ребенок не рождается плохим или хорошим, а таковым его делает воспитание; что нужно поэтому изолировать дитя от порочной социальной среды, в том числе от невежественных и грубых родителей, Екатерина и Бецкой создают проект детских интернатов. Но не по монашескому образцу, как знаменитый французский воспитательный дом Сен-Сире, а учреждения светского типа, в которых будет воспитываться ни больше ни меньше как «новая порода людей» – не только просвещенных и образованных, но доброжелательных и искренних, с чувством собственного достоинства и, как сказали бы сегодня, с развитым «эмоциональным интеллектом». Воспитанию чувств уделялось особое внимание.
Новым, невиданным ранее был строжайший запрет телесных наказаний; и здесь реформаторы вступали в противоборство с многовековой традицией вбивания знаний в детские головы с помощью розог. Другого способа просто не знали. Так, замечательный русский просветитель, один из первых в России селекционеров и ландшафтных дизайнеров Андрей Болотов с ужасом вспоминает в своих мемуарах, как отец-полковник отдал его в обучение грубому и жестокому немцу, только потому, что тот был «носителем языка». Этот немец, ничего не объясняя, только заставлял мальчика заучивать фразы и нещадно порол его розгами даже просто из-за плохого настроения.
Совершенно новым в проекте было также то, что особое внимание уделялось образованию девочек – будущих жен и матерей, которые мягко и естественно передадут новые «правила сердца» своим семьям и детям. Мудрая Екатерина – женщина на троне – уже тогда прекрасно понимала, сколь велико и благотворно может быть женское влияние в семье и обществе.
И исключительно современным даже сегодня слышится настоятельное внушение, что по отношению к ребенку недопустимо любое насилие и принуждение, в том числе психологическое. Не надо заставлять зубрить тексты – это лишь создаст отвращение к учебе; необходимо прививать детям интерес к получению знаний, любовь к чтению, внушать уверенность в своих силах и способностях. Душа ребенка хрупка и ранима и потому требует величайшей осторожности. Плохое настроение и самочувствие учитель должен оставить за порогом и явиться в класс бодрым и доброжелательным; и уж абсолютно недопустимо срывать зло на детях.
Если ребенок совершил проступок, следует сначала с ним поговорить; в наказании соблюдать меру, учитывать возраст и развитие ребенка, «чтобы жестокостью не привести его к упорству и бесчувствию». И еще – не заставлять детей ходить «по струнке», не запрещать им бегать и играть.
Конечно, удалось не все из задуманного. И сегодня далеко не все преподаватели могут соответствовать критериям авторов проекта, а в 18 веке таких учителей катастрофически не хватало, учительские кадры приходилось создавать одновременно с воспитанием «новой породы» учеников. В учреждениях, куда принимались малыши, очень велика была детская смертность – ведь только в 20 веке в результате исследований стало понятно, что ребенку жизненно необходимы не только питание, но и ласка, телесный контакт. Тогда этого не знали.
Выпускники новых образовательных учреждений стали заметным явлением в обществе. Современники отмечали, что окончившие их молодые люди отличались иногда некоторой наивностью, но зато абсолютной искренностью и чистосердечием, естественностью и теплотой в отношениях, ярко проявленными талантами.
Автором проектов этих новых учреждений, их вдохновителем и фактическим руководителем был Иван Бецкой. В Москве был открыт Воспитательный дом и первое в России Коммерческое училище для купеческих детей; в Санкт-Петербурге – Смольный институт благородных девиц.
МОСКОВСКИЙ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ДОМ
В Московский Воспитательный дом принимали сирот и подкидышей. Любой человек мог принести ребенка к дверям дома и оставить его там, никаких документов не требовалось. Конечно, приносили прежде всего незаконнорожденных детей или малышей из самых бедных семей, где родители не могли прокормить ребенка. Скольким детям это спасло жизнь! А еще в Воспитательный дом отдавали детей крепостные крестьяне – ведь его выпускники становились свободными, и никто не мог отнять у них свободу: на этот счет был издан особый строгий указ Екатерины II.
Обширное хозяйство Воспитательного дома содержалось в основном за счет благотворительных взносов, и самым щедрым благотворителем был Прокофий Демидов, потомок богатейшего рода, владевшего металлургическими заводами на Урале. В портрете, написанном по заказу императрицы, этот яркий деятель эпохи представлен, вопреки традиции, в домашней одежде, он опирается на садовую лейку, а рядом на столе – ботанический атлас и луковицы редких тюльпанов, каждая из которых стоила дороже бриллианта.
Демидов вошел в легенду уже при своей жизни как баснословный богач и один из самых самобытных «чудаков и оригиналов». Например, он любил кататься на санях; и летом, когда нет снега, его многочисленные слуги насыпали на московских улицах сугробы из… соли! Увлеченный ботаник и садовод, он завел первый в Москве ботанический сад, куда всех пускали бесплатно. А когда Демидов заметил, что редкие растения из сада стали пропадать, он решил эту проблему так, как мог только он. Хозяин расставил на аллеях постаменты, но поместил на них не статуи, а своих крепостных, задекорированных под скульптуры. Представьте, какой шок испытывали желающие унести растение, когда ожившая «статуя» внезапно спрыгивала с постамента!
Несмотря на свои чудачества, Демидов верой и правдой служил своей стране. В портрете Левицкого он указывает рукой на цветы в кадках, напоминая, что так же заботится о подрастающем поколении (в России есть поговорка: «Дети – цветы жизни»). В подтверждение его слов вдали виден Московский Воспитательный дом.
Среди выпускников Воспитательного дома был замечательный самобытный художник Степан Щукин. В созданном им парадном портрете вступившего на престол Павла I нет ни короны, ни царских регалий, ни дворцовых интерьеров. Противоречивая личность Павла вызывала у современников самые разные образы: одни считали его тираном, другие солдафоном… Но молодой художник увидел Павла романтиком, рыцарем, который со шпагой в руках готов сражаться с окружившей его тьмой.
СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
Институт благородных девиц получил название «Смольный», так как находился на территории Смольного монастыря в Санкт-Петербурге; этот великолепный архитектурный ансамбль создал Бартоломео Франческо Растрелли, а здание института спроектировал Джакомо Кваренги.
Принимали туда в основном девушек из «благородных» (то есть дворянских) семей, но также и мещанок, и купчих, и даже крепостных крестьянок, если хозяин давал им вольную. Особым приказом Екатерины этих бывших крепостных никто и никогда не мог больше лишить свободы, и свободными становились их мужья и дети.
Девочки изучали в институте не только шитье и вязание, музыку и иностранные языки, но и литературу и историю и даже математику и физику, что было неслыханно в женском образовании 18 века. Крупнейший портретист эпохи Дмитрий Левицкий создал серию великолепных, полных жизни портретов «смолянок». Эти портреты – лучшее свидетельство успеха новой образовательной системы. На одном из них ученица Екатерина Молчанова изображена с книгой в руках, но и рядом с электрической машиной, служившей пособием для физических опытов; ее поза свободна, она чувствует себя абсолютно уверенно, ее лицо светится умом и искренней заинтересованностью.
Театр Смольного, где преподавали актерское и балетное мастерство крупнейшие артисты, а декорации писали знаменитые художники, вскоре стал знаменит на весь Петербург. Девочки проходили кастинг на желаемые роли. В «Портрете Екатерины Хрущевой и Екатерины Хованской» Левицкого девочки играют сценку из комической оперы «Капризы любви, или Нинетта при дворе». В этом портрете восхищает все: и убедительная игра совсем юных исполнительниц в любовной сцене; и то, как тонко подмечает художник разницу между характерами девочек и их ролями; и нежные переливы красок, великолепно передающих ткани костюмов и пейзажные декорации.
В роли соблазнителя 10-летняя Хрущева – по всеобщему признанию лучшая исполнительница мужских ролей. С залихватской улыбкой, подбоченившись, она крепко берет за подбородок свою партнершу по сцене, ее глаза лучатся смехом. 11-летняя Екатерина Хованская в роли скромной девушки стыдливо отводит взгляд и растерянно перебирает фартук.
Шведский король Густав III, побывавший с визитом в Санкт-Петербурге в 1777 году, был так восхищен игрой Екатерины Хрущевой в роли чудовища в сказочном спектакле «Земира и Азор», что подарил ей бриллиантовое сердечко. Позднее он прислал в Смольный институт свой портрет, исполненный Александром Рослиным, с надписью: «Donne par GUSTAF III Roy de Suede. A la commun: te Imperiale des Dem: les nobles de Russie. 1777» («В дар от Густава III, короля Швеции. Российскому Императорскому пансиону благородных девиц. 1777»).
«Портрет Екатерины Нелидовой» излучает юную искрящуюся энергию, радость жизни. Всегда живая, настоящая и в жизни, и на сцене, Нелидова, по свидетельству современников, никогда не притворялась, была совершенно бесхитростна, но обладала редким для 18 века чувством собственного достоинства. На нее обратил внимание будущий император Павел I, но она не стремилась извлечь из его привязанности какие-либо выгоды. Все годы общения с Павлом Нелидова отказывалась принимать от него подарки. Лишь ей одной он доверял, и лишь ей удавалось усмирять приступы императорского гнева. А когда Павел встретил новую любовь, Нелидова, не унижаясь на мольбы и бесполезные объяснения, покидает дворец и возвращается в Смольный институт, где остается до конца жизни.
ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ БЕЦКОГО
Иван Бецкой внимательно наблюдал за учебой и жизнью каждой из воспитанниц Смольного института, знал их чаяния и мечты. Одна из смолянок – Глафира Алымова, талантливая арфистка – стала последней любовью просветителя. Не в силах справиться со своей страстью, старик осыпал девушку подарками, а после окончания Смольного института уговорил поселиться в его доме. «Ты хочешь видеть меня мужем или отцом?», – задавал он вопрос Глафире.
Девушка выбрала его в качестве отца, но Бецкому было невыносимо сложно держаться в рамках этой роли. Он ревновал Алымову к его поклонникам, пытался расстроить ее брак, а когда Глафира все же вышла замуж, упросил молодых жить в его доме. Эта жизнь вскоре стала невыносимой для всех троих, но Бецкой не в силах был расстаться с юной возлюбленной, не видеть ее каждый день рядом с собой.
Глафире с мужем пришлось буквально бежать из дома Бецкого. Овдовев в возрасте 50 лет, Алымова вышла замуж за человека недворянского происхождения намного моложе ее. В обществе разгорелся скандал, но Глафира проявила удивительную для женщины той эпохи независимость и стойкость и сумела отстоять свою любовь. Она добилась разрешения на брак у императора Александра I, а позднее выхлопотала дворянское звание для своего мужа. Ее второй брак, как и первый, оказался счастливым.
Такой же стойкой и верной Алымова была и в дружбе. Она помогала своей лучшей институтской подруге Елизавете Рубановской, когда та отправилась в Сибирь вслед за сосланным туда писателем Александром Радищевым. Впервые в России он выразил в своей книге протест против крепостного права, а потому, по словам Екатерины II, был «бунтовщик хуже Пугачева (Емельян Пугачев – предводитель народного восстания). Сочувствие, а тем более помощь семье государственного преступника могло ей дорого обойтись, но она продолжала помогать все годы ссылки, а после смерти подруги взяла на себя заботы об ее детях.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
И.Ю. Трубецкой, у которого Иван остался единственным сыном, неоднократно предлагал ему принять родовую фамилию. Но просветитель ответил, что и фамилия Бецкой его достаточно прославит. История подтвердила его слова: редкая книга или фильм о России 18 века обходится без рассказа об этом ярком незаурядном человеке, так много сделавшем для духовной культуры своей эпохи.
Помимо Института Благородных девиц и Московского Воспитательного дома, он несколько лет возглавлял Петербургскую Академию художеств; при нем в Санкт-Петербурге был установлен памятник Петру I Э. Фальконе – знаменитый Медный всадник. Всех его заслуг не перечислить.
На памятнике Тысячелетию России, установленном в древнем русском городе Новгороде, фигура Ивана Бецкого находится рядом с Екатериной Великой.
Лектор – Татьяна Ильина, искусствовед, сотрудник научно-просветительского отдела Третьяковской галереи, автор книг и статей по искусству.